«Час пик», 2 апреля 1997 года
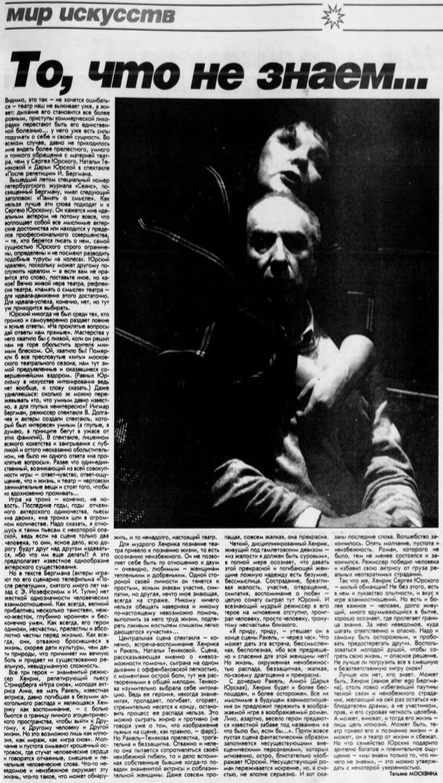
Видимо, это так — не хочется ошибаться — театр наш не выживает уже, а живет: дыхание его становится все более ровным, приступы коммерческой лихорадки перестают быть его единственной болезнью… у него уже есть силы подумать о себе и своей сущности. Во всяком случае, давно не приходилось мне видеть более прелестного, умного и тонкого обращения с материей театра, чем у Сергея Юрского, Натальи Теняковой и Дарьи Юрской в спектакле «После репетиции» И. Бергмана.
Вышедший летом специальный номер петербургского журнала «Сеанс», посвященный Бергману, имел следующий заголовок: «Память о смысле». Как нельзя лучше эти слова подходят и к Сергею Юрскому. Он кажется мне идеальным актером не потому вовсе, что воплощает собой все мыслимые актерские достоинства или находится у пределов профессионального совершенства, — те, кто берется писать о нем, самой сущностью Юрского строго ограничены, определены и не посмеют разводить подобные турусы на колесах. Юрский идеален, поскольку может другому послужить идеалом — а если вам не нравится это слово, поставьте иное, но какое? Вечно живой нерв театра, рефлексия театра, «память о смысле» театра — для идеала-движения этого достаточно. Для идеала-успеха, конечно, нет, но тут уж приходится выбирать.
Юрский никогда не был среди тех, кто громко и самоуверенно раздает ловкие и ясные ответы. «На проклятые вопросы дай ответы нам прямые». Мастерства у него хватило бы с лихвой, коли он решил нам на горе обольстить зрителя мнимым блеском. Ой, хватило бы! Померкли б все пресловутые «хиты» московского театрального сезона, нам тут зимой предъявленные и оказавшиеся совершеннейшим вздором. (Равных Юрскому в искусстве интонирования ведь нет вообще, к слову сказать). Даже удивляешься: сколько ж можно пережевывать «то, что умным давно известно, а для глупых неинтересно»? Ингмар Бергман, режиссер спектакля В. Долгачев и актеры создали спектакль, который был интересен умным (а глупые, я думаю, в принципе бегут в ужасе от этих фамилий). В спектакле, лишенном всякого кокетства и заигрывания с публикой и оттого несказанно обольстительном, не было ни одного ответа «на проклятые вопросы». Разве что один-единственный, возникающий из всей совокупности игры — ответ-чувство, ответ-ощущение, что и жизнь, и театр — чертовски занимательные вещи и стоят того, чтобы их вдохновенно проживать…
Игра на троих — конечно, не новость. Последние годы, годы отчаянного актерского одиночества, пьесы «на двоих», «на троих» шли в огромном количестве. Надо сказать, я отношусь к таким пьесам с некоторой опаской, ведь если на сцене только два человека, то они, ясное дело, всю дорогу будут друг над другом издеваться, ибо что им еще делать?! А это предполагает известное однообразие актерского существования.
Но в тексте Бергмана (актеры играют по его сценарию телефильма «После репетиции», снятого много лет назад с Э. Йозефсоном и И. Тулин) нет жесткой однозначности человеческих взаимоотношений. Как всегда, великий прибалтиец несколько таинствен, нежно-жесток, глубинно ироничен и бесконечно умен. Как всегда, его герои одиноки, несчастны, прелестны и абсолютно честны перед жизнью. Как всегда, они, отважно бросившиеся в жизнь, скорее дети культуры, чем дети природы, что причиняет им вечную боль и придает их существованию реальную, невыдуманную сложность.
Все три героя — знаменитый режиссер Хенрик, репетирующий пьесу Стриндберга «Игра снов», молодая актриса Анна, ее мать Ракель, известная актриса, давно погибшая в безумии алкогольного распада и являющаяся Хенрику как воспоминание, — с болью бьются о границу личного эгоцентрического пространства, чтобы выйти к Другому, к Другому человеку и Другой жизни. Но это возможно лишь как иллюзия, как мираж, как «игра снов». Молчание и пустота омывают крошечный островок, где стучат человеческие сердца и говорятся отчаянные, смешные и печальные человеческие слова. Что-то неведомое и неизбежное окружает эту жизнь, что-то такое, что может обнаружить, и то ненадолго, настоящий театр.
Для мудрого Хенрика познание театра привело к познанию жизни, то есть осознанию неизбежного. Он не позволяет себе быть по отношению к двум — очевидно, любимым — женщинам тепленьким и добреньким. Одной стороной своей личности он тянется к простым, ясным знакам участия, симпатии, но другая, нечто иное знающая, всегда на страже. Никому ничего нельзя обещать наверняка и никому по-настоящему невозможно помочь, выполнить за него труд жизни, подпереть лживым костылем слишком легко дающегося «участия» …
Центральная сцена спектакля — конечно, встреча-воспоминание Хенрика и Ракель, Натальи Теняковой. Сцена, рассказывающая именно о «невозможности помочь», сыграна на одном дыхании с оффенбаховской легкостью, с моментами острой боли, тут же растворенными в общей мелодии. Тенякова изумительно выбрала себе интонацию. Ведь ее героиня, некогда знаменитая, пропадает, погибает, сгорает, стремительно несется к концу, остановить процесс ее распада нельзя. Это можно сыграть жирно и противно (не говоря уже о том, что изображение пьяных на сцене, как правило, — фарс). Но Ракель-Тенякова прелестна, трогательна и беззащитна. Отважно и нелепо она пытается сопротивляться своей неизбежной гибели, то и дело вспоминая собственные бывшие когда-то повадки знаменитой актрисы и соблазнительной женщины. Даже совсем пропащая, совсем жалкая, она прекрасна.
Четкий, дисциплинированный Хенрик, живущий под гамлетовским девизом — «из жалости я должен быть суровым», в полной мере осознает, что давать этой прекрасной и погибающей женщине ложную надежду есть безумие, бессмыслица. Сострадание, брезгливая жалость, участие, отвращение, симпатия, воспоминание о любви — целую сонату сыграл тут Юрский. И всезнающий мудрый режиссер в его герое на мгновение отступил, проиграл человеку, просто человеку, тронутому несчастьем близкого.
«Я приду, приду, — утешает он в конце сцены Ракель, — через час». Что может дать эта встреча, бессмысленная, бесполезная, ибо все предрешено и спасения для этой женщины нет! Но жизнь, окруженная неизбежностью распада, беззащитная, жалкая, по-своему драгоценна и прекрасна. С дочерью Ракель, Анной (Дарья Юрская), Хенрик будет и более беспощаден, и более осторожен. Все их мыслимые в будущем взаимоотношения он предложит пережить в воображаемой игре в воображаемый роман. Лихо, азартно, весело герои предаются известной забаве под названием «а что было бы, если бы…». Почти вовсе пустая сцена фантастическим образом заполняется несуществующими внесценическими персонажами, которых мгновенно, остро, блистательно изображает Юрский. Несуществующий роман переживается искренне, но, к счастью, не вполне серьезно. И вот сказаны последние слова. Волшебство закончилось. Опять молчание, пустота и неизбежность. Роман, которого не было, тем не менее состоялся и закончился. Режиссер победил человека и избавил свою актрису от груза реальных неотвратимых страданий.
Так что же, Хенрик Сергея Юрского — милый обманщик? Не без этого, есть в нем и лукавство опытности, и вкус к игре взаимоотношений. Но есть и более важное — человек, долго живущий, много вдумывающийся в бытие, хорошо осознает, где пролегает граница знания. За нею неведомое, куда шагать ответственно и опасно. Надо и самому быть осторожным, и пробовать предостерегать других. Воспользоваться молодой душой, чтобы согреть свою жизнь, — опасное решение. Не лучше ли погрузить все в смешную и безответственную «игру снов»?
Лучше или нет, кто знает. Может быть, Хенрик (явное alter ego Бергмана), столь ловко избегающий паутины тесной связи и неизбежного страдания, желающий на сей раз остаться наблюдателем драмы, а не участником, прав, и его суровая четкость целебна. А может, виноват, и тогда его жизнь — лишь цепь иллюзий. Может быть, театр привел его к познанию жизни — а может, он в театр от жизни и сбежал. Но что семейство Юрских подарило зрителю богатое и пленительное ощущение — «мы знаем только то, что ничего не знаем», — это можно утверждать с некоторой уверенностью.
