«После репетиции» И. Бергмана – Хенрик Фоглер. Перевод Н.Казимировской. Режиссер-постановщик – В.В. Долгачев. MXAT им. А.П. Чехова. Премьера состоялась 27 декабря 1996 года
Отрывок из спектакля на юбилейном вечере Сергея Юрского 16 марта 2010 на сцене театра Моссовета.
АУДИОВЕРСИЯ СПЕКТАКЛЯ
На этой странице:
- Программа спектакля
- Фотографии Нины Аловерт. 1997
- АУДИО Игорь Померанец. Интервью Сергея Юрского во время работы над «После репетиции» (осень 1996) — опубликовано 10/02/2019
- Ингмар Бергман. «После репетиции. (инфо)» — декабрь 1996.
- Григорий Заславский «После репетиции». – «Независимая газета», 14 января 1997 года
- Мария Седых. «Паузу держат Юрские». — «Литературная газета», 15 января 1997
- Татьяна Москвина. То, что не знаем. («После репетиции») «Час пик», 2 апреля 1997 года
- Наталья Каминская. «Репетиция жизни». — «Культура», 1997
- Из статьи Марины Дмитревской «Вторая реальность» – «Петербургский театральный журнал» №13, 1997
- Вспоминает Наталья Казимировская, переводчик пьесы
- Дмитрий Волчек «Пятый акт» Ингмара Бергмана»

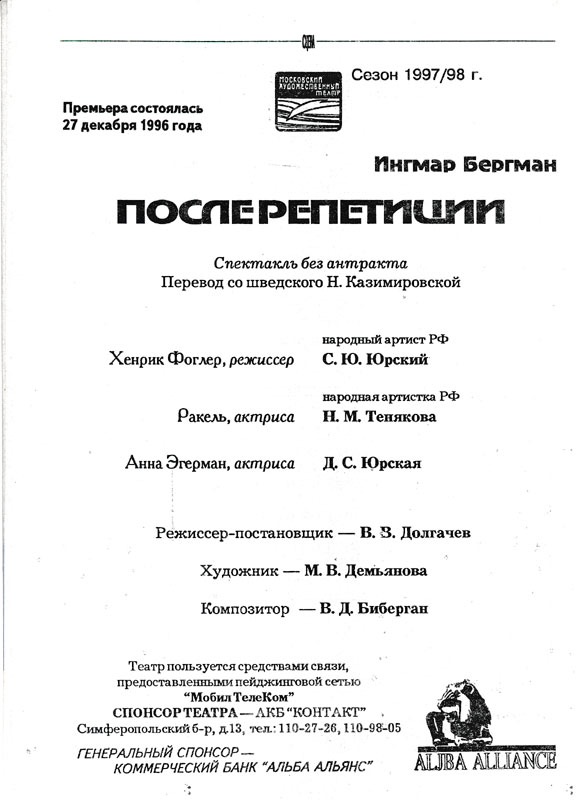


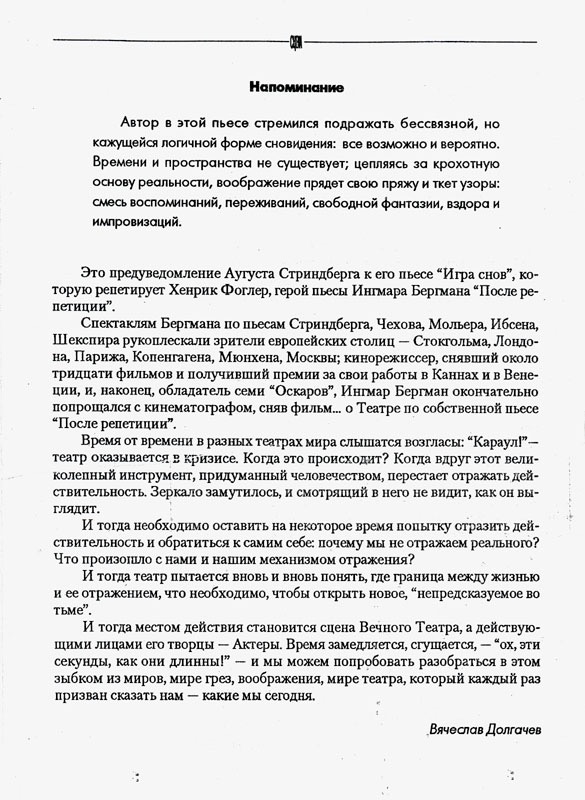
Фотографии Нины Аловерт. 1997



























АУДИО Игорь Померанец. Интервью Сергея Юрского во время работы над «После репетиции» (осень 1996) — опубликовано 10/02/2019
Ингмар Бергман. «После репетиции». (инфо) — декабрь 1996.

Московский художественный театр им. А. П. Чехова накануне Нового года представляет премьеру — спектакль «После репетиции» по сценарию Ингмара Бергмана. Имя выдающегося шведского режиссера кино и театра знакомо нашему зрителю по фильмам «Осенняя соната», «Земляничная поляна», «Фанни и Александр» и другим.
В середине 80-х фильм «После репетиции» был поставлен Бергманом в Италии. С переводом сценария, который сделала Наталья Казимировская, познакомился режиссер МХАТ Вячеслав Долгачев, автор таких известных спектаклей, как «Возможная встреча», «За зеркалом», «Тойбеле и ее демон». Ему и принадлежит идея пригласить для участия в спектакле Сергея Юрского, Наталью Тенякову и их дочь — молодую актрису Дарью Юрскую.
Такой выбор вполне понятен. Ведь три персонажа пьесы связаны между собой не только тем, что являются коллегами…
На сцене, только что покинутой участниками репетиции, остается лишь режиссер. Он пытается найти связь всего прожитого в жизни с той минутой, на которой только что остановилась его работа с актерами… Граница между жизнью и искусством, настоящим и прошлым, тайны творчества, в которых отношения художника и модели всегда окружены легендой, — все это необходимо осознать герою, чтобы идти дальше. Но и мучительное прошлое живет в каждом из нас, оно играет свою роль в судьбе режиссера и двух актрис, каждая из которых занимает особое место в его жизни…
Художник спектакля — Маргарита Демьянова, автор музыки — Вадим Биберган.
Премьера спектакля — 27, 28, 29 и 30 декабря.
Фото И. Александрова.
Григорий Заславский. «После репетиции». «Независимая газета», 14 января 1997 года
В ПЬЕСЕ Бергмана всего три героя: две актрисы (ту, которая помоложе, играет Дарья Юрская, ту, что постарше, – Наталья Тенякова) и режиссер (Сергей Юрский) да два с половиной часа сценического времени.
Это пьеса крупных планов (не случайно, по свидетельству видевших, телефильм самого Ингмара Бергмана был выстроен именно на них, и, быть может, поэтому необязательными смотрелись с такой тщательностью собранные на сцене МХАТа детали театрального закулисья).
Режиссер Вячеслав Долгачев пренебрег элементарной предосторожностью, боязнью провала и отдал предпочтение Большой сцене МХАТа имени Чехова перед камерной, Новой, казалось бы, более созвучной этой негромкой, хотя и вполне производственной пьесе. Именно потому, что это «производство» нуждалось, по его мысли, как раз в такой старой «коробке» с партером, бельэтажем, балконом, многое повидавшими за свои без малого сто лет. Может быть, и коробка способна увлечь сама по себе, однако же, думается, и Бергман не ошибался, когда экранизировал собственную пьесу как цепочку сменяющих друг друга крупных планов, и спектакль Художественного театра перестает быть так же притягательным, едва актеры отступают в самую глубину сцены.
А там – маленький ящик кукольного театра. Из Феллини? Не только, – про свой кукольный театр, который он выстраивал в своей детской, пишет Бергман в своем «Монологе», которого ни Долгачев, ни Юрский не читали до самой премьеры.
Публике, вполне, к слову, интеллигентной (Юрский и Тенякова всегда были любимцами именно этой, самой тонкой прослойки общества), не мешает незнание или относительное знание (наслышанность) сюжета «Игры снов» Августа Стриндберга, которую у Бергмана репетирует режиссер Хенрик Фоглер. Публике интересен Юрский. Как он в полудреме, во сне, перелетая на миг в прошлое, реагирует на стареющую и еще стремительнее спивающуюся Ракель (Наталья Тенякова). Как смотрит на нее, не отрываясь, и в этом взгляде и в его молчании и слушании нетрезвой, но совершенно связной и временами трагической речи – и страх за нее, и стоящее ему немалых усилий напряжение, и усталость, озабоченность и одновременно – забота о ней – по памяти о прежнем еще к ней чувстве, и все это – сквозь вдруг охватывающее его отвращение к пьяной женщине, к пристающей с какой-то несыгранной ролью актрисе, и через все это – память о прежней к ней любви.
Как увлекательно он рассказывает молоденькой Анне, о том, как могли бы развиваться их отношения, будь он на 10 лет моложе, – по дням, по неделям, в деталях и мелочах! И – всерьез увлекается ею.
Публика смотрит на Тенякову. Нерастраченная с годами женственность волнует в пьяной ее героине, скорее притягательной, чем отталкивающей. Она говорит, что театр – это похоть и грязь, сама же осталась чистой в своем падении (какая русская тема!). Ракель перечисляет несыгранные роли, говорит, какая она замечательная комическая актриса, и в эти слова Тенякова вкладывает свой бушующий темперамент, свою собственную тоску по неслучившемуся на этой сцене, не растраченный и в сотой своей части комизм и дарование лирической героини. Поэтому небольшой эпизод с ее участием становится эмоциональным и театральным центром спектакля.
По наследству публика авансирует своим вниманием Дарью Юрскую (о чем ближе к финалу, кажется, уже не приходится жалеть). Впрочем, само ее согласие выйти на одну сцену с такими звездами, как Тенякова и Юрский, заслуживает уважения. Она умеет слушать, что, конечно, не единственный среди ее талантов, но, слушая, ей удается не потеряться в тени говорящего.
Напоследок – еще несколько слов о самом Юрском. Его справедливо считают интеллектуальным актером, причем за актерской рассудочностью иногда видят скрытый или, наоборот, обнаруживающий себя режиссерский показ. Но тут, в самой что ни на есть «режиссерской» роли, Юрский позволяет себе быть простым и естественным, так что впору бы говорить об искусстве не-игры — одном из самых претенциозных, самых вычурных, сказал бы я, если бы в самом этом определении не был заложен традиционно отрицательный смысл, игры на грани отрицания игры — на грани жизни и бытия. Юрский не боится поделиться со своим героем собственными, сущностными, такими увлекающими в нем самом чертами, так сильно отличающими его от многих современников и ровесников, – романтизмом, например, совершенным отсутствием цинизма. И это странным, но естественным образом входит в спектакль и сразу располагает к пьесе сугубо театральной или, как назвала ее Наталья Тенякова, теоретической.
Мария Седых. «Паузу держат Юрские». «Литературная газета», 15 января 1997

— Нет, ты ошибаешься! Искусство ведут вперед всегда большие художники, те, кто шаг за шагом отшлифовывает свои старые приемы, отказывается от них, те, кто по причине внутренней необходимости, опираясь на весь свой колоссальный профессиональный опыт, идет вперед, проявляет новую инициативу…
Это не реплика из пьесы “После репетиции”. Это ответ Ингмара Бергмана интервьюеру. Но в этом спектакле она вполне могла бы звучать рядом с другими серьезными и глубокими рассуждениями о театре, артистах, предназначении.
“Какой ужас! — скажет испуганный читатель. — Разве можно такой текст играть и два часа слушать его в зрительном зале?”
“Да не верьте, вас шельмуют зануды- критики, — ответят те, кому кто-то пересказывал сюжет. — Там страсти в клочья, там про любовь, там, между прочим, дочка пытается соблазнить отца, считая его просто другом дома”.
Артель Артистов Сергея Юрского представляют на этот раз вместе с ним жена и дочь: актрисы МХАТа Наталья Тенякова и Дарья Юрская. Неважно, что этой марки нет в афише, из памяти она еще не стерлась. Как не стерлось из памяти стремление артели отстоять достоинство профессии. В “семейности” сюжета есть, конечно, дополнительная манкость для публики (скажу даже вещь кощунственную — куда большая манкость, чем имя Бергмана на афише, имя, никогда не бывшее у нас кассовым), но есть и свой “семейный” риск, придающий сюжету остроту.
Немногие сегодня могли бы позволить себе начать спектакль так, как начинает Юрский. Его герой — режиссер, знаменитый режиссер — сидит спиной к залу на сцене, освещенной скудным “дежурным” светом, среди случайных предметов, оставшихся после репетиции, и долго-долго всматривается в макет декораций, установленный в глубине. В маленькой коробочке меняются задники — картинка за картинкой. Он молчит, слушает тишину. И мы как завороженные слушаем ее вместе с ним, не отрывая взгляда от его “умной” спины. Артист заставляет нас сосредоточиться.
Марк Захаров и многие вслед за ним обязательно сказали бы что-то про энергию, которая… и так далее. Юрский эти формулировки ненавидит, исповедуя совсем другой театр, о котором и пойдет речь в спектакле. Режиссер — В. Долгачев, художник — М. Демьянова.
Известно, что материал артиста — сам артист. Его нервы, кишки, стати, его биография, детские сны, алкогольные кошмары… Кто-то возразит, что это материал всякого художника, но Роден, к примеру, все же отсекает лишнее от камня, которому, возможно, не больно, а артист выворачивает себя и собой должен заполнить художественное пространство, отсекая, налепляя, скрывая и обнажая себя. Горькое, жестокое ремесло.
Сегодня на наших глазах отец будет обучать ему дочь. Хенрик — Анну, Юрский — Юрскую. Вообще-то они будут просто разговаривать о папе-маме, которые тоже были артистами, о ее любовнике, о какой- то роли, в которой он ее видел, о пьесе, которую сейчас репетируют, о весьма неуместной перед премьерой беременности… Все перемешается: любовь, ненависть, маленькие хитрости начинающей актрисы и неопытной женщины, режиссерский эгоцентризм и потаенная отцовская нежность, мудрость мастера и вечная необходимость с каждой работой все начинать сначала. Все в дело, все туда-туда, в копилку будущего спектакля. Мы не знаем пьесу, которую они репетируют, но много узнаем о том, что надо расковырять в себе, чтобы она прозвучала. Мы не знаем, получается ли у Анны роль, но видим, как ей не просто продираться к самой себе. Папина дочка, только еще не знает об этом.
Если напряжение в поединке Хенрика и Анны достигается нажатием скрытых пружин, прячется от досужих взоров и от самих себя, то явление Ракель вдрызг разбивает всю конструкцию, она безжалостно рвет психологические кружева, казалось бы, сорвавшись с тормозов. Тенякова как будто все тайное делает явным… чтобы оставить зрителя с новой тайной: как она все это делает? Ракель является задремавшему Хенрику во сне, и сон этот скорее “из Феллини”, чем “из Бергмана”, но от этого не менее захватывающ. За несколько минут (а может быть, сцена длится долго?) она сыграла свое блистательное прошлое, отчаянное настоящее и ужасающее будущее. Она успела повиниться перед мужем, любовником, дочерью и обвинить их в том, что разодрана в клочья. Она успела поведать о своей безнадежной зависимости от этих стен, этой рампы, этих колосников и этого человека, когда-то открывшего ей горние выси, а теперь кинувшего ей обглоданную кость из двух реплик в новой пьесе. И о своей гордыне большой актрисы, у которой и две реплики потонут в аплодисментах.
…Под Новый год многие не отрываясь смотрели по НТВ французский сериал с Симоной Синьоре. Вернее, просто смотрели Синьоре — старую, отекшую, растолстевшую. Охали, ахали, ужасались, а глаз оторвать не могли. Ракель Теняковой той же породы. Без подтяжек.
Современный театр заигрывает с публикой грубо. И она капризничает: погладь здесь, пощекочи тут, утешь, расслабь, возбуди! Театр не успевает выполнять команды.
Юрские среди тех, кто держит паузу. Вслушиваются в тишину. Теперь — втроем.
Татьяна Москвина. То, что не знаем. («После репетиции») «Час пик», 2 апреля 1997 года
Видимо, это так — не хочется ошибаться — театр наш не выживает уже, а живет: дыхание его становится все более ровным, приступы коммерческой лихорадки перестают быть его единственной болезнью… у него уже есть силы подумать о себе и своей сущности. Во всяком случае, давно не приходилось мне видеть более прелестного, умного и тонкого обращения с материей театра, чем у Сергея Юрского, Натальи Теняковой и Дарьи Юрской в спектакле «После репетиции» И. Бергмана.
Вышедший летом специальный номер петербургского журнала «Сеанс», посвященный Бергману, имел следующий заголовок: «Память о смысле». Как нельзя лучше эти слова подходят и к Сергею Юрскому. Он кажется мне идеальным актером не потому вовсе, что воплощает собой все мыслимые актерские достоинства или находится у пределов профессионального совершенства, — те, кто берется писать о нем, самой сущностью Юрского строго ограничены, определены и не посмеют разводить подобные турусы на колесах. Юрский идеален, поскольку может другому послужить идеалом — а если вам не нравится это слово, поставьте иное, но какое? Вечно живой нерв театра, рефлексия театра, «память о смысле» театра — для идеала-движения этого достаточно. Для идеала-успеха, конечно, нет, но тут уж приходится выбирать.
Юрский никогда не был среди тех, кто громко и самоуверенно раздает ловкие и ясные ответы. «На проклятые вопросы дай ответы нам прямые». Мастерства у него хватило бы с лихвой, коли он решил нам на горе обольстить зрителя мнимым блеском. Ой, хватило бы! Померкли б все пресловутые «хиты» московского театрального сезона, нам тут зимой предъявленные и оказавшиеся совершеннейшим вздором. (Равных Юрскому в искусстве интонирования ведь нет вообще, к слову сказать). Даже удивляешься: сколько ж можно пережевывать «то, что умным давно известно, а для глупых неинтересно»? Ингмар Бергман, режиссер спектакля В. Долгачев и актеры создали спектакль, который был интересен умным (а глупые, я думаю, в принципе бегут в ужасе от этих фамилий). В спектакле, лишенном всякого кокетства и заигрывания с публикой и оттого несказанно обольстительном, не было ни одного ответа «на проклятые вопросы». Разве что один-единственный, возникающий из всей совокупности игры — ответ-чувство, ответ-ощущение, что и жизнь, и театр — чертовски занимательные вещи и стоят того, чтобы их вдохновенно проживать…
Игра на троих — конечно, не новость. Последние годы, годы отчаянного актерского одиночества, пьесы «на двоих», «на троих» шли в огромном количестве. Надо сказать, я отношусь к таким пьесам с некоторой опаской, ведь если на сцене только два человека, то они, ясное дело, всю дорогу будут друг над другом издеваться, ибо что им еще делать?! А это предполагает известное однообразие актерского существования.
Но в тексте Бергмана (актеры играют по его сценарию телефильма «После репетиции», снятого много лет назад с Э. Йозефсоном и И. Тулин) нет жесткой однозначности человеческих взаимоотношений. Как всегда, великий прибалтиец несколько таинствен, нежно-жесток, глубинно ироничен и бесконечно умен. Как всегда, его герои одиноки, несчастны, прелестны и абсолютно честны перед жизнью. Как всегда, они, отважно бросившиеся в жизнь, скорее дети культуры, чем дети природы, что причиняет им вечную боль и придает их существованию реальную, невыдуманную сложность.
Все три героя — знаменитый режиссер Хенрик, репетирующий пьесу Стриндберга «Игра снов», молодая актриса Анна, ее мать Ракель, известная актриса, давно погибшая в безумии алкогольного распада и являющаяся Хенрику как воспоминание, — с болью бьются о границу личного эгоцентрического пространства, чтобы выйти к Другому, к Другому человеку и Другой жизни. Но это возможно лишь как иллюзия, как мираж, как «игра снов». Молчание и пустота омывают крошечный островок, где стучат человеческие сердца и говорятся отчаянные, смешные и печальные человеческие слова. Что-то неведомое и неизбежное окружает эту жизнь, что-то такое, что может обнаружить, и то ненадолго, настоящий театр.
Для мудрого Хенрика познание театра привело к познанию жизни, то есть осознанию неизбежного. Он не позволяет себе быть по отношению к двум — очевидно, любимым — женщинам тепленьким и добреньким. Одной стороной своей личности он тянется к простым, ясным знакам участия, симпатии, но другая, нечто иное знающая, всегда на страже. Никому ничего нельзя обещать наверняка и никому по-настоящему невозможно помочь, выполнить за него труд жизни, подпереть лживым костылем слишком легко дающегося «участия» …
Центральная сцена спектакля — конечно, встреча-воспоминание Хенрика и Ракель, Натальи Теняковой. Сцена, рассказывающая именно о «невозможности помочь», сыграна на одном дыхании с оффенбаховской легкостью, с моментами острой боли, тут же растворенными в общей мелодии. Тенякова изумительно выбрала себе интонацию. Ведь ее героиня, некогда знаменитая, пропадает, погибает, сгорает, стремительно несется к концу, остановить процесс ее распада нельзя. Это можно сыграть жирно и противно (не говоря уже о том, что изображение пьяных на сцене, как правило, — фарс). Но Ракель-Тенякова прелестна, трогательна и беззащитна. Отважно и нелепо она пытается сопротивляться своей неизбежной гибели, то и дело вспоминая собственные бывшие когда-то повадки знаменитой актрисы и соблазнительной женщины. Даже совсем пропащая, совсем жалкая, она прекрасна.
Четкий, дисциплинированный Хенрик, живущий под гамлетовским девизом — «из жалости я должен быть суровым», в полной мере осознает, что давать этой прекрасной и погибающей женщине ложную надежду есть безумие, бессмыслица. Сострадание, брезгливая жалость, участие, отвращение, симпатия, воспоминание о любви — целую сонату сыграл тут Юрский. И всезнающий мудрый режиссер в его герое на мгновение отступил, проиграл человеку, просто человеку, тронутому несчастьем близкого.
«Я приду, приду, — утешает он в конце сцены Ракель, — через час». Что может дать эта встреча, бессмысленная, бесполезная, ибо все предрешено и спасения для этой женщины нет! Но жизнь, окруженная неизбежностью распада, беззащитная, жалкая, по-своему драгоценна и прекрасна. С дочерью Ракель, Анной (Дарья Юрская), Хенрик будет и более беспощаден, и более осторожен. Все их мыслимые в будущем взаимоотношения он предложит пережить в воображаемой игре в воображаемый роман. Лихо, азартно, весело герои предаются известной забаве под названием «а что было бы, если бы…». Почти вовсе пустая сцена фантастическим образом заполняется несуществующими внесценическими персонажами, которых мгновенно, остро, блистательно изображает Юрский. Несуществующий роман переживается искренне, но, к счастью, не вполне серьезно. И вот сказаны последние слова. Волшебство закончилось. Опять молчание, пустота и неизбежность. Роман, которого не было, тем не менее состоялся и закончился. Режиссер победил человека и избавил свою актрису от груза реальных неотвратимых страданий.
Так что же, Хенрик Сергея Юрского — милый обманщик? Не без этого, есть в нем и лукавство опытности, и вкус к игре взаимоотношений. Но есть и более важное — человек, долго живущий, много вдумывающийся в бытие, хорошо осознает, где пролегает граница знания. За нею неведомое, куда шагать ответственно и опасно. Надо и самому быть осторожным, и пробовать предостерегать других. Воспользоваться молодой душой, чтобы согреть свою жизнь, — опасное решение. Не лучше ли погрузить все в смешную и безответственную «игру снов»?
Лучше или нет, кто знает. Может быть, Хенрик (явное alter ego Бергмана), столь ловко избегающий паутины тесной связи и неизбежного страдания, желающий на сей раз остаться наблюдателем драмы, а не участником, прав, и его суровая четкость целебна. А может, виноват, и тогда его жизнь — лишь цепь иллюзий. Может быть, театр привел его к познанию жизни — а может, он в театр от жизни и сбежал. Но что семейство Юрских подарило зрителю богатое и пленительное ощущение — «мы знаем только то, что ничего не знаем», — это можно утверждать с некоторой уверенностью.
Наталья Каминская. «Репетиция жизни». Газета «Культура», 1997
Вечная тема диффузии игры и жизни, которая так занимает крупных художников, не обошла и Ингмара Бергмана. Говорят, написав пьесу «После репетиции», режиссер ушел из кинематографа. Впрочем, он снял по этой пьесе телефильм, но написана она о театре.
Спектакль, поставленный Вячеславом Долгачевым во МХАТе им. А.П.Чехова, размыкает пространство сцены в любые измерения, куда только проникает человек в своих мыслях, фантазиях и снах. Но у Бергмана этот человек – театральный режиссер. И действие, по крайней мере, визуально, происходит в стенах театра. В тишине огромной сцены, в паузе между репетицией и спектаклем, когда нет на подмостках ни героев, ни их исполнителей. И лишь тот, кто сочиняет спектакли, сидит сейчас в режиссерском кресле и слушает в эти минуты одному ему ведомые голоса.
Режиссер по имени Хенрик Фоглер в который уже раз ставит «Игру снов» Стриндберга. Но игра его собственных снов, в которую вмешиваются реально происходящие в эти минуты события, вовсе уже не театр. Хотя, и этого нельзя утверждать наверняка, ибо герои пьесы театральные люди, которые путают подчас измерения, в которых пребывают. Перед нами странный, зыбкий треугольник: режиссер и две его актрисы. Стороны треугольника то и дело размываются от бытия в сторону небытия. Молодая Анна и умершая уже Ракель. Анна – дочь Ракели, которую любил Фоглер. Теперь, похоже, он влюблен и в Анну, которая, быть может, и есть его собственная дочь. Старый грех Мольера зависает в вечном театральном пространстве.
«Стороны треугольника» играют в действительности муж, жена и их дочь: Сергей Юрский, Наталья Тенякова и Дарья Юрская. Дарья похожа на мать – и лицом, и хрипловатыми оттенками голоса. Реальная биография артистов накладывается на историю персонажей и создает некую двойную оптику. Блестящая актерская пара рискует взять себе в партнеры дочь-актрису. Впрочем, рискует в первую очередь сама Дарья. Ибо роль Анны сложна и невыигрышна. В пьесе молодая актриса, ненавидящая свою мать, тянется к стареющему режиссеру, не вполне оценивая собственных мотивов поведения. Кто привлекает ее: мужчина, бывший любовник матери, знаменитый режиссер, человек, от которого зависит ее карьера? На почти пустой сцене в бесконечных диалогах пребывают только Он и Она – попробуй сыграй это, если тебе едва за двадцать. А в следующую минуту на сцену выйдет блистательная мать, Наталья Тенякова, на которую ты, вдобавок, еще и похожа.
Ракель приходит в снах Фоглера, опустившаяся, явно «сдвинутая» талантливая актриса. Или просто сломленная женщина, жившая с одним, а любившая другого. В короткой по времени партии Тенякова успевает сыграть длинную обратную перспективу реального и воображаемого. Эксцентрика соседствует у нее с натурализмом, клоунесса вдруг выдает трагическое откровение. Эпизод становится блистательным отдельным номером, который «не пропал» бы и без всех остальных сцен спектакля.
Но на самом деле в полупустом и гулком сценическом пространстве царит Фоглер-Юрский. Он много молчит, но и, произнося текст, не оставляет ни на секунду подспудной и мучительной духовной работы. Именно она заполняет воздух сцены, ощущается почти материально, и это поразительная сила артистизма. Внутри вечной фоглеровской «репетиции», длящейся и до и во время, и после реальной работы над новым спектаклем, герой Юрского может позволить себе и стариковское ворчание, и режиссерское «вещание», и острую человеческую жалость к самому себе, и самого его пугающее увлечение юной Анной. Но режиссерское начало в нем сильнее всех остальных, и он, похоже, анатомирует свою собственную жизнь так же, как привык разбирать чужую пьесу.
В какие минуты мхатовского спектакля возникает эта острая горечь? Когда оживает в глубине сцены коробочка макета (художник Мария Демьянова)? Или, когда Фоглер, признавшись Анне в любви, тут же цинично разыгрывает ожидающий обоих пошлый сюжет короткого романа? Дарья Юрская обретает в эти минуты уверенность и даже артистический блеск.
Сыграть вымышленный сюжет актеры умеют, как правило, талантливее, чем прожить собственную жизнь. Так в пьесе. Так, быть может, и в реальности. Финал спектакля открыт. Сцена пуста. Режиссер один в своем любимом кресле. Вновь оживает волшебная коробочка. Не получилось в жизни. Но там-то, в светящемся театральном макете, наверняка все получится.
Юрий Фридштейн. «Сладкая тайна». «Экран и сцена» №16-17, апрель-май 1997
На пресс-конференции, прошедшей в день премьеры спектакля «После репетиции» – троих участников: Сергея Юрского, Наталью Тенякову и их дочь Дарью Юрскую – всячески и с разных сторон «пытали» на одну, безусловно, весьма интригующую тему. Как соотносится их семейно-творческая биография с той историей, что играют они на сцене? Вопросы эти были и естественны, и, я бы сказал, неизбежны. Хотя на самом деле задавать их было не нужно. Не потому, что звучали они «неэтично» — все происходило в высшей степени корректно и деликатно, — но потому, что на все эти вопросы актеры уже ответили там, в зрительном зале, во время представления.
Они ответили на эти вопросы так, как должно было на них ответить. Все сказав, но сохранив ту сладкую тайну, что сокрыта и в самой пьесе, и в ее втором плане — жизни и судьбе ее автора Ингмара Бергмана, и в том третьем плане, что возник сам собой из жизни и судьбы Юрских.
Сергей Юрский сказал на пресс-конференции, что, по его мнению, — это самая грандиозная пьеса о театре, какая вообще существует. Она написана человеком, знающим театр изнутри. Бергман как бы продолжил, развил намеки, что прочитывались отчасти в «Гамлете», отчасти в «Версальском экспромте» Мольера. Тенякова уточнила: речь не о закулисье, не о внешней (скандальной? эпатирующей? чрезмерно откровенной?) стороне театральной изнанки. Речь «о том, чем мы вообще занимаемся, что мы за существа — актеры, режиссеры, чем мы все связаны, друг друга и любя, и ненавидя. О том, сколько страданий и радостей приносит театр тем, кто ему служит».
Ингмар Бергман написал своеобразную пьесу, сочетающую человеческую драму и почти теоретический трактат, — соединив все это в бесконечно увлекательный, полный тайн, интригующий и манящий парадокс о театре.
Почему непременно «парадокс»? Потому, что герои пьесы (и в первую очередь режиссер Хенрик Фоглер) с равной степенью убежденности, вдохновенно и красноречиво говорят подчас вещи, по смыслу вполне взаимоисключаемые. Означает ли сей факт, что в каком-то случае они лгут, лукавят или актерствуют? Ничуть. Эта противоречивость одна из составляющих сладкой тайны сцены, ее непредсказуемости, невозможности ее до конца разгадать, дать всему четкие и окончательные определения. В вечной подвижности, переменчивости, неуловимости очарование театра, его прелесть, его чисто «женский характер». Непредсказуемый, внешне алогичный, хотя в алогичности театра его логика, возможно, и заключается.
Быть может, вследствие «женского характера» самым яркими моментом спектакля становится явление Женщины и Актрисы: актрисы Натальи Теняковой, играющей актрису Ракель. Она возникает как видение, всплывающее в сознании спящего Фоглера, как тень прошлого, давно отошедшая в иной мир, но по-прежнему будоражащая.
То, что делает Тенякова в этой сцене, очевидно, и называется игрой на разрыв аорты. Одновременно царственно-надменна, неприступна и невероятно жалка и униженна. Непосредственна, естественна — и в то же время абсолютная актерка, истинная лицедейка. Восхитительная в своей порочности и цинизме, и бесконечно трагичная в том, как говорит она о своей болезни, о происходящем в ней разрушении, о страхе смерти, что поселился в ее душе, когда ей было только двадцать лет. Но более всего о том, что никогда уже не сможет она сыграть большую роль. И именно это приносит ей нестерпимую боль, сводит с ума. «Ты думаешь, мой инструмент испорчен навсегда?” — настойчиво задает она вопрос Фоглеру, бывшему некогда ее любовником, ее режиссером, а теперь ее отвергнувшем.
В их диалоге все переплетено так же неразрывно, как оно было переплетено в их общем прошлом: жизнь в театре и просто жизнь. Кажется подчас — они не знают, не помнят, где кончалось одно и начиналось другое. А может, они отдельно и не существовали, а только вместе, составляя то самое единое целое, где жизнь является лишь продолжением театра, а театр — продолжением жизни? Подчас они могут актерствовать, притворствовать, лукавить, но счастливы они лишь тогда, когда спадают маски.
Не знаю, сколько времени длится пребывание Теняковой на сцене, но кажется, что оно и бесконечно долго и до невозможности кратко. Долго, потому что о ее героине мы узнаем так много (а чего не узнаем, о том смеем догадываться), что создается ощущение, будто перед нами и в самом деле прошла, промелькнула вся ее жизнь. А кратко оттого, что голос Теняковой, этот ее низкий, рокочущий, маняще-завораживающий голос, можно слушать бесконечно, и все равно будет мало. Ах, как она играет! Говорят, что критикам подобные эмоциональные всплески не к лицу, но почему?
Героиня Теняковой — воплощение спонтанности (словечко Бергмана из пьесы) театра. Герой Юрского — его многообразия. Его спонтанности и его постоянства, его теоретичности и его алогичной непредсказуемости, из которой, в конечном итоге, все и рождается. Его игры снов, где прошлое и настоящее, фантазия и реальность, жизнь выдуманная и жизнь подлинная сливаются, сплавляются в некое странное единство.
Юрский-Фоглер может сидеть почти неподвижно, просто всматриваясь или вслушиваясь во что- то, нам невидимое и неслышное, и быть при этом иногда почти величественным, а иногда казаться седым ребенком. В иные же моменты статика вдруг взорвется бурей эмоций, шквалом самых разнообразных и разноречивых чувств, и тогда он произносит потрясающие по вдохновенности слова. Слова, что в стенах Художественного театра, где играется спектакль, обретают еще один смысл, еще одно измерение. Непредусмотренное, незапланированное автором, но неизбежно рождающееся здесь, в легендарном здании легендарного театра. Вновь подтверждая мысль о непредсказуемости, о том, что в театре и в самом деле «не дано предугадать, как… слово отзовется».
Юрский-актер, Юрский-режиссер, Юрский-писатель, Юрский- личность — все сплелось в этом его герое, тоже режиссере, тоже философе и тоже, несомненно, личности. Вот он сидит за столом, думает, молчит, но возникает ощущение напряженной работы парадоксального, причудливого, своенравного ума, озаренного искрой божьей. Или присаживается на диван, диван из «Гедды Габлер», рождающий у него тысячу воспоминаний и неожиданно в его воображении возникает будущий спектакль. На этом диване он засыпает и видит во сне Ракель. На нем он просыпается и в яви возникает Анна, та юная актриса, с которой он ставит свой спектакль сегодня.
Представляю, сколь непросто пришлось в этой работе Дарье Юрской. Ей надо было и не уронить фамильной чести, и постараться быть самой собой. Мне кажется, и то, и другое ей удалось. Она играет Анну наступательноциничной и беззащитной, одолеваемой страхами и сомнениями. Ненавидящей Ракель, свою мать, — и в то же время ощущающей неразрывную связь с нею. Ту странную преемственность, в которой и притяжение, и отталкивание равно много значат. Подобно всем молодым, она склонна относиться к прошлому с показным равнодушием, втайне желая понять, как жили тогда, когда были так же молоды, как она теперь, и ее мать, и этот Фоглер, которого она страшится, боготворит и ненавидит. Перед которым исповедуется и которого при этом беззастенчиво водит за нос. Ей кажется — в их прошлом сокрыта та тайна, постижение которой даст ее собственной жизни тот стержень, которого ей так недостает.
В этом их прошлом она как будто ищет спасения от того всезнания и всеведения, что из защитной маски может стать (или — уже почти стало) ее сутью.
И правда — в какой-то момент ее насмешливо-ироничная резкость неожиданно сменится почти детской незащищенностью, поза — искренностью и простотой. В финале, когда причудливая вязь пьесы, этих сновидений- воспоминаний, как бы вернет нас к ее началу, мы поймем: тот стержень, что, казалось, отсутствует у героини Д.Юрской — он в ней есть. И теперь она будет искренна и безыскусна, а Фоглер (или Юрский?) — поразит нас откровенным актерством. Поменялись ролями? Нет же. Просто это театр, и вот они оба, уже вместе, в унисон, перебивая друг друга, безудержно фантазируют, сочиняя и тут же разыгрывая свой вымышленный, свой гипотетический роман. А может, и не гипотетический вовсе? Как знать. Театр продолжается ведь и после репетиции. Этим прекрасен, этим и мучителен.
Так получилось, что имя режиссера спектакля Вячеслава Долгачева возникло в рецензии только под занавес. У Долгачева в стенах Художественного театра сложилась своя судьба: «он умирает в актерах». «Молочный фургон не останавливается больше здесь», где правит бал Татьяна Лаврова; «За зеркалом», где аналогичная функция принадлежит Галине Вишневской. Мне показалось, что в своей последней работе Долгачев, вновь «умерев в актерах», все же остался жив. Мне показалось, что его фраза, произнесенная все на той же пресс-конференции: «Когда я открыл эту пьесу, я понял, что это мой театр», — не была дежурной. Мне показалось, что это его спектакль в той же мере, как и спектакль Юрских. И что свое желание, «чтобы в нем возникло ощущение тишины», ему удалось воплотить. Ибо, при всем водопаде слов, монологов, исповедей, при всем безудержном актерстве его героев, вопреки всему этому, в спектакле возникает ощущение тишины. Тайны, что сокрыта и в Театре вообще, и тайны, что хранят в себе стены столетнего Художественного театра. Несмотря на всю свою подчас и горечь — сладкой тайны.
__________________
Из статьи Марины Дмитревской «Вторая реальность» . «Петербургский театральный журнал» №13, 1997
«Важно, что «После репетиции» играют во МХАТе и в момент его столетия. Тени двух великих основоположников — Станиславского и Немировича — должны вступать в молчаливый диалог с Хенриком Фоглером. В 1898 в России они были Паулем и Тео (кстати, и историческими современниками), они вступали в ХХ режиссерский век с тем же азартом и так же конфликтно, как герои «Одной единственной жизни» (к слову сказать: возможно ли у нас сделать спектакль о Константине и Владимире, как сделали о своих великих — эстонцы? Боюсь, что нет. Почему — тема для отдельных раздумий). Прошло 100 лет, и на пороге ХХ1 века (будет ли он режиссерским?) на эту сцену выходит режиссер Хенрик Фоглер, alter ego Ингмара Бергмана.
— Я здесь когда-то был, но не помню. (Я. Рохумаа. «Одна единственная жизнь»)
Их соединяет Сергей Юрский. Не просто артист, и не просто режиссер, а Актер, играющий Режиссера Фоглера в пьесе, сочиненной режиссером Бергманом. Режиссер Юрский играет режиссера в спектакле другого режиссера — Долгачева. Бергман написал о себе — режиссере роль для актера… Сколько же здесь планов и лирических исповедей тех, кому необходимо соединить осколки своих театральных жизней в едином зеркале сцены?
С Юрским, Натальей Теняковой и их дочерью Дарьей (спектакль играют втроем, семьей) сцену заполняют и другие тени. Мне все казалось, что тут витает Мольер, поставленный и сыгранный когда-то Юрским, и чудилась Арманда-Тенякова — дочь Мольера, женившись на которой он не знал, что — дочь… У Бергмана молодая актриса Анна Эгерман не знает, что она — дочь Фоглера, а ее мать Ракель — когда-то ведущая актриса в театре Фоглера — умерла, похожая на брошенную Мадлену Бежар — ведущую актрису мольеровской труппы… Фоглер касается носком туфли Анны, гладит ее колено. Она тихонько соблазняет его: «В тебе нет ничего чужого…» Роман мог бы состояться, Анна влюблена в Фоглера, как когда-то Арманда в Мольера (не различая — кого любит: мужчину или художника?..) Роман не состоится, потому что профессионалам сюжеты мировой драматургии известны. Случись Фоглеру увлечься Анной всерьез, Жан-Батист пришел бы ему на память… Да и без него Фоглер излагает Анне сюжет их возможного романа, день за днем, приводя его… к театральной премьере и банальной житейской исчерпанности. Что может быть страшнее: познав театр и много раз прочертив драматические линии между многочисленными персонажами, заранее выстроить логику и крах собственных, человеческих, реальных отношений, которые только начинаются? Это уже не мука Тригорина, это уже мука Фоглера.
Думаю, Хенрика Фоглера нельзя сыграть. Здесь нужна психологическая тождественность ему, способность органически «присвоить» бергмановский интеллектуализм. Здесь нужно быть Юрским. Ведь интересны не только слова, написанные Бергманом, интересно наблюдать «диалог» Юрского с текстом — на равных, ибо его художественный опыт (не менее значительный для русского зрителя, чем опыт Бергмана) окрашивает размышления Фоглера в особые тона. Юрский — может быть, единственный в нашем театре, кто умеет совместить логику рассуждения с лирическим переживанием этого рассуждения, противопоставить «не я» роли — обоснованное «я». Из этого и возникает Хенрик Фоглер, тем более, что его монолог о природе театра, объяснения с Анной, воспоминания — это тоже цепь ролей самого Хенрика. Он прожил жизнь в двух реальностях — и неизвестно, какая из них была истинной. Сцена и жизнь слиты для Фоглера в одно — и потому так легко сюда может войти умершая Ракель. Войти на сцену, чтобы сыграть эпизод жизни…
Сомнений не остается: Ракель — великая актриса. Ее пьяно-трезвый диалог с Фоглером опрокидывает на лопатки всю его рациональную, рассужденческую логику. Жизнь сражается с театром за свои права особым оружием — загубленным талантом Ракели, которая любила всю жизнь одного человека, а жила с другим, потому что всех троих соединял Театр. Тенякова играет эту сцену поразительно, безоглядно, эксцентрично и лирически, бесстрашно предъявляя пустой сцене, Фоглеру и залу почти натуралистические подробности алкоголического распада Ракели — и высочайшую эмоциональность ее душевных откровений. Есть логика и опыт Фоглера. Пользуясь ими, можно не переживать реальных чувств, удовлетворившись знанием причин и следствий любого сюжета. И есть логика Ракели, которая кидается в волны любви, страсти, скандала — и погибает, ненужная Театру истинностью своих страстей.
«Один раз я спросила ее, почему она оставила театр. Она ответила, что любила папу и не хотела зря растрачивать свою жизнь. Это звучало красиво. Мама была невероятна лжива», — говорит Анна, девочка, испорченная двоемирием театра и потому ничего не понимающая в жизни.
— У нас есть миф. Очень древний библейский миф. Мы отправимся туда, где слова теряют свой смысл. Мы пойдем к началу. (Я. Рохумаа. «Одна единственная жизнь»)
Хенрик Фоглер остается сидеть на полутемной сцене, за режиссерским столиком под лампой. В глубине загорается маленький макет театральной сцены. Очень маленький по сравнению с Миром, которым выглядит в этот момент большая сцена Художественного театра…»
Вспоминает Наталья Казимировская, переводчик пьесы:
Мне очень повезло! Олег Николаевич Ефремов, взяв в репертуар к столетию МХАТа Бергмановский телесценарий «После репетиции» в моём переводе, передумал и ставить сам, и играть главную роль в этом спектакле. Почему передумал? Потому что лелеял несбыточную мечту, что Бергман лично прилетит в Москву и проведёт хотя бы одну репетицию во МХАТЕ. Просил меня помочь это организовать. Я не могла. Почему «повезло»? Потому что физическое и моральное состояние Ефремова в этот период было таковым, что многочисленные театральные интриги во МХАТЕ чуть не зачеркнули мой вклад как переводчика сценария и как «придумщика» всей этой затеи, добившейся действительно невероятного (до сих пор не знаю точно, как мне это удалось!): получение личного разрешения Бергмана на постановку во МХАТЕ «После репетиции» в моём переводе. И главное везение в этой ситуации заключалось в том, что Ефремов предложил этот материал Юрскому. Именно к нему и к Наташе Теняковой, узнав о «закулисных интригах», бросилась я за помощью, встретив их на «Балтийском Доме» в Питере. Кристально честные, чистые люди они успокоили меня и защитили от козней московского «бомонда», не подозревая тогда, что я получу поддержку ещё одного человека: Ингмара Бергмана. До сих пор у меня хранится письмо за подписью тогдашнего директора МХАТА господина Ефимова, адресованное в Драматен о том, что если господин Бергман настаивает, чтобы пьеса шла только в переводе Натальи Казимировской, то так тому и быть. Таким образом: Сергей Юрский, Наташа Тенякова и Ингмар Бергман сыграли судьбоносную роль в моей жизни. А потом начались репетиции в Москве, и я была приглашена на сдачу и на премьеру. Надо сказать, что атмосфера во время сдачи показалась мне очень тёплой и дружественной. Я встретилась с Олегом Ефремовым, Ией Савиной, Вячеславом Невинным, Сергачёвым, познакомилась с режиссёром спектакля Славой Долгачёвым, роль которого в постановке, как мне показалось, была чрезвычайно незначительной (это моё ощущение доказывает и тот факт, что в записанном Юрским позднее для книги Бергмана «Пятый акт» диске радиоспектакля «После репетиции», имя Долгачёва даже не упоминается…).
Не могу и не хочу судить о качестве спектакля, который стал мне родным. Мне казалось, что он должен был идти на Малой сцене (телефильм Бергмана весь построен на крупных планах) и мне хотелось бы и в спектакле максимального приближения лиц актёров. Но Юрский – человек упрямый, и он сознательно шёл на то, чтобы удерживать внимание зрителя, невзирая на большое открытое сценическое пространство, длиннющие монологи и диалоги, отсутствие внешнего сценического действия. Мне кажется, он влюбился в сам бергмановский текст, как он влюблялся и влюблял своих слушателей в другие литературные тексты. В дарственной надписи на одной из своих книг Юрский написал мне : «Спасибо за текст, который УПРУГ! Бергман с нами!»
На премьеру спектакля я приехала с листом бумаги, на котором размашистым почерком было написано поздравление с премьерой и наилучшие пожелания спектаклю. Подпись: Ингмар Бергман. Оценить это событие может только тот, кто знает, что Ингмар Бергман в этот период практически не встречался с журналистами, даже подпись свою отказался поместить в специально посвящённом ему выпуске журнала СЕАНС. Такой вот был человек со странностями. С Тарковским, высоко им чтимым, не познакомился лично, с Анджеем Вайдой, ставящим спектакль в Драматене, ходившем по театру теми же коридорами, не столкнулся. А здесь написал. И передал мне это поздравление через Эрланда Юзефсона – своего ближайшего друга, исполнителя роли Фоглера в телефильме «После репетиции».
К одному из моих дней рождений Сергей Юрский прислал четыре строчки: « Как говорил Артур Вануни, Гуляя ночью средь полей, Не так уж важен юбилей, Как важно то, что накануне…» А накануне было много запомнившегося… Спектакль «После репетиции» был приглашён на фестиваль Стриндберга в Стокгольм. Был сыгран дважды. Я трепетала… Ведь в зрительном зале сидели артисты Драматена во главе с Эрландом Юзефсоном, знающими наизусть весь текст. В данном случае им предстояло слушать синхронный перевод с моего русского текста на шведский. Боже, что будет…. И никогда не забуду тот шквал аплодисментов и то, как повёл себя Юрский. Он вытащил меня из зрительного зала на сцену, и я стояла с ним, с Наташей, с Дашей и раскланивалась с ними вместе!
Ещё один, очень показательный эпизод, на который, возможно, сам Юрский и не обратил внимания, а мне эта сценка врезалась в память. После окончания спектакля «После репетиции» в Москве, где мы были вместе с Сигрид Селстрём – руководительницей стриндберговского фестиваля, нас пригласил на ужин в ресторан при театре шведский атташе по культуре. С культурой у него явно было не всё в порядке, потому что оказавшись в ресторане, я поняла, что приглашены только мы, Долгачёв и Юрский. Тут надо добавить, что художником спектакля была жена Долгачёва, и она уже маячила у входа в зал ресторана, надеясь на приглашение. Долгачёв слегка заметался, но пригласить сам жену не посмел. Я с ужасом понимала, что сейчас, разгримировавшись, в ресторан придут Юрский и Тенякова и, увидев отсутствие места, поймут всю дикость ситуации. И они пришли. Не моргнув глазом, Юрский взял стул у соседнего столика, пододвинул его к нашему столу и без всяких дипломатических экивоков усадил Наташу, потом сел сам. Это было сделано без всякой демонстрации, легко и непринуждённо, как само собой разумеющееся, с абсолютным спокойствием . Так мы и ужинали: атташе с женой, Юрский с женой, я с Сигрид, и Долгачёв — один. Не знаю, заметил ли кто-нибудь ещё эту сцену, но для меня это был пример врождённого чувства собственного достоинства и полного владения собой.
Что я могу ещё добавить? У спектакля была достаточно длинная жизнь. МХАТ возил его на зарубежные гастроли, нарушая условия контракта с Бергманом, Драматеном и мной. Скрывали свои поездки, не платили… Юрский, не считавший нужным от кого-либо что-то скрывать, рассказывал про эти гастроли мне, я «качала права», выясняя отношения с вороватой администрацией «того» МХАТА: Корчевниковой, Ефимовым. Юрского, как я понимаю, они упрекали и просили со мной не откровенничать. Он их не очень слушался, но я сама перестала допытываться.
Отношения с Сергеем Юрским и с Наташей Теняковой я сохраняла все эти годы. Каждый раз, бывая в Москве, старалась встретиться с кем-то из них, расспросить об их жизни, поделиться своими переживаниями. Когда выходило второе подарочное издание книги «Пятый акт» Бергмана, Юрский согласился записать диск с текстом «После репетиции». Когда моя дочь поступала в ГИТИС, советы давали мне Юрский и Тенякова. Когда в редкие свои приезды хотела попасть на хороший спектакль – обращалась к ним. Любила их, люблю и любить буду! Пока жива!
«Пятый акт» Ингмара Бергмана. Радио «Свобода». Передача «Культурный дневник», 16 июля 2009
Источник: https://www.svoboda.org/a/1778665.html
Дмитрий Волчек: Книга, которую мне очень приятно представить в этом выпуске радиожурнала, это великолепно изданный, с прекрасными иллюстрациями и аудиоприложением том драматических произведений Ингмара Бергмана “Пятый акт”. Его подготовили живущие в Стокгольме театроведы Наталья Казимировская и Натан Горелик, и мы договорились с ними 14 июля, в день рождения великого шведского режиссера, поговорить и об Ингмаре Бергмане, и об этой книге. Наташа, ведь работа над “Пятым актом” растянулась на две десятилетия, и уже выходила первая версия когда-то?
Наталья Казимировская: Два десятилетия еще не пробежало, мне кажется, это был конец 90-х годов, когда это все начиналось. Действительно, есть несколько моментов в нашей деятельности, связанных с переводом Бергмана, потому что сначала появилось произведение “После репетиции” в журнале покойного Леши Казанцева “Драматург”, в это же время начались переговоры по поводу создания книжки “Пятый акт”, в которую входят и “После репетиций”, “Монолог” Бергмана, “Шумит и притворяется” и “Последний крик” — то есть, четыре произведения. И в это же самое время, это происходило параллельно, Московский Художественный Театр, который отмечал свой юбилей, Ефремов очень заинтересовался пьесой “После репетиции” и начал вести со мной переговоры по поводу постановки в МХАТ. Была издана поначалу книжка очень скромная, которая называлась “Пятый акт Бергмана”, а сейчас эта же самая книга вышла вторым изданием, совершенно иначе она выглядит, ее иллюстрируют фотографии Вансилиуса, одного из самых ведущих шведских фотографов, который работал больше всего с Бергманом, и это совершенно уникальные фотодокументы.
Дмитрий Волчек: А сам Бергман знал о вашей работе, видел первое издание?
Наталья Казимировская: Я не знаю, видел ли он, но знал о нашей работе безусловно, потому что для того, чтобы заниматься переводами Бергмана нужно получать разрешение. И с получением этих разрешений при жизни Бергмана были большие проблемы. То есть, если еще для книги эти проблемы решались агентами издательства “Норштет”, которое было агентом Бергмана, то на постановку его сценариев, написанных для кино или телевидения разрешения Брегман при жизни не давал, и последнее, данное им разрешение, в России, во всяком случае, это было разрешение на постановку “После репетиции” в МХАТ в моем переводе.
Дмитрий Волчек: Вообще русская бергманиана очень обширна, давно переведены его мемуары “Латерна Магика”, книга “Картины”, выходил сборник статей, составленных Шведским киноинститутом к 70-летию режиссера, был сборник «Бергман о Бергмане» и, конечно, множество ретроспектив фильмов и театральных постановок. Может быть, нет другого режиссера, которого бы так хорошо знали и любили в России как Бергмана и, кстати, эта любовь сама по себе была предметом анализа в бергмановском номере журнала “Сеанс”. Натан, почему Бергман так любим в России?
Натан Горелик: Довольно трудно ответить сразу на такой сложный вопрос, но, видимо, его способность в своих произведениях — как в кино, так и в литературных — проникать в тайники человеческой души, в человеческую психологию, наверное, это привлекает, прежде всего, российского зрителя и читателя.
Дмитрий Волчек: Я вспоминаю сейчас свое знакомство с Бергманом, оно началось немножко нестандартно, не с “Земляничной поляны” — первой картины, которая вышла в советском прокате — а с фильма “Персона”. Я видел его на полузакрытом просмотре еще школьником и, наверное, слово “ошеломление” точнее всего тут будет употребить, потому что мне казалось тогда, что это не рядовой фильм, а что-то сверхъестественное, какое-то абсолютное совершенство, волшебство. Наташа, вы помните свое первое знакомство с Бергманом?
Наталья Казимировская: Конечно, помню. У меня оно было традиционное, это была именно “Земляничная поляна”. Мы проникали на этот фильм с большим трудом в Питере. Естественно, когда мы в 1989-м году приехали в Швецию, мне даже в голову не могло прийти, что в итоге и нам выпадет счастье заниматься переводами Бергмана, потому что мне казалось тоже, как вы сейчас сказали, что все переведено уже, все сделано, уже все давным-давно сказано. Но вы упомянули театральные постановки и, должна вам сказать, что то, что происходило и то, что ставили театры, это все были пиратские постановки, которые очень огорчали Бергмана и его представителей здесь, потому что разрешение на эти театральные постановки никогда не было получено, были большие по этому поводу недоразумения.
Дмитрий Волчек: Натан, вы помните свое знакомство с Бергманом?
Натан Горелик: Я, конечно, тоже видел “Земляничную поляну” в Питере, но фактически познакомился с Бергманом я уже в Швеции, и это, конечно, было потрясение. И я впервые познакомился с театральным Бергманом с его спектаклями в “Драматене”. По-моему, первый спектакль это был “Пер Гюнт”, который я видел. Великолепный, потрясающий спектакль, который сначала был поставлен для малой сцены, такой грандиозный эпос в маленьком сценическом пространстве, потом он был перенесен на большую сцену, по требованию и желанию зрителей. Это была потрясающая работа. Потом, конечно, кино и сама личность Бергмана, которая притягивала и поражала во многих смыслах.
Дмитрий Волчек: Для нас Бергман вообще был Швецией, был главным шведским художником, но в самой Швеции отношение публики, критики и государства к Бергману было, скажем так, непростым в разные периоды. Я помню, как мне еще в 80-е годы говорили молодые шведы, что Бергман это на экспорт, у них нет такого культа Бергмана, как за границей и вообще все это устарело. Собственно, такая же ситуация и в России, в каком-то смысле. Для иностранца, интересующегося русским кино, на первых местах всегда будут Эйзенштейн и Тарковский, это неоспоримо, а для российского зрителя не так уж все однозначно и совершенно не факт, что он сразу назовет эти имена. Наташа, как менялось отношение к Бергману за те годы, что вы живете в Швеции, и как его фигура выглядит в зеркале общественного мнения сейчас, через два года после его смерти? Кстати, эта вторая годовщина очень скоро — 30 июля.
Наталья Казимировская: Вы абсолютно правы, в Швеции отношение к Бергману очень неоднозначное, как было, так оно и есть. Я тоже помню, как создавался журнал “Сеанс”, о котором вы говорили, мы делали интервью с различными людьми — и обычными зрителями, и даже со студентами Киноинститута — и почти все — очень мало, кто из них говорил иначе, — относились к нашим вопросам скептически и говорили, что он неплохой режиссер, но это вовсе не значит, что он такой великий, это только за границей такое отношение к нему. И, к сожалению, это все продолжалось и продолжается. Кроме того, ведь шведы большие пуритане, и поэтому все его сложнейшие взаимоотношения с женщинами и с детьми, вся его жизнь, которую он открыл и вылил на всех самые потайные свои, даже самые темные стороны, они все их шокируют. И, в принципе, в Швеции очень сдержанно относятся, они точно так же относится и к Стриндбергу. Даже в языке шведском нет слова “великий” есть слово максимум “большой”. Что касается того, что происходит сейчас, то, конечно, он становится потихонечку памятником, и поэтому люди культуры хотят как можно больше пропагандировать его творчество, готовы поддерживать и просмотры, и презентации, и спектакли. Вот сейчас возник на этой волне Бергмановский фестиваль, вот он только что прошел, где поставлены несколько его сценариев. А, надо сказать, что при жизни Бергман был категорически против того, чтобы на сцене воссоздавались его не предназначенные для театра произведения. А тут вдруг пошла волна постановок, и совсем неизвестно, как Бергман к этому бы сам отнесся. Вот недавно в прессе появилась статья известного театроведа Сэрна, который пишет, что он думает, что Бергман очень был бы удивлен и недоволен тем, что происходило. Надо сказать, что если опять говорить о нашей книжке, вернуться к теме нашего разговора, то первое издание этой книжки было довольно скромно сделано. Об этом очень хорошо может рассказать Натан, потому что книга называется “Пятый акт”, и в этом есть свой смысл. А я хочу сказать, что когда вышло второе издание, то уже были и фотографии, и биографические материалы, то есть то, что при жизни Бергман не разрешал делать в этой книжке. Когда его не стало, стало можно уже делать практически все.
Дмитрий Волчек: Натан, “Пятый акт” это последний акт классической драмы, да?
Натан Горелик: Да. Но может сложиться впечатление, что это мы дали название этой книге. На самом деле “Пятым актом” назвал книгу сам Бергман. Фактически это одна из немногих, а, может, и единственная его книга, которая представляет собой не просто сборник сценариев, сделанный издательством или редакцией, или его семейная жизнь и повествование. Этот сборник драматических произведений составил сам Бергман, и название этой книге дал сам Бергман. Этот сборник включил в себя четыре произведения, которые посвящены театру и кино, то есть, тем вечным спутникам, которые сопровождали Бергмана всю жизнь. И в этом смысле книга эта, как нам показалось, представляет теперь, после ухода большого мастера, особый интерес. Это своего рода творческое завещание режиссера, писателя, как мне кажется.
Дмитрий Волчек: У книги ведь есть еще и аудиоприложение. Наташа говорила о пиратских постановках бергмановских пьес в России, но вашу книгу дополняет легальный спектакль.
Наталья Казимировская: Книгу дополняет аудиозапись Юрского, который назвал эту запись и книгу “Наш поклон гению”. Он произнес эту фразу несколько раз. Но легальной была и постановка в МХАТ тех лет, потому что Бергман впервые дал такое разрешение театру. Когда, например, делался журнал “Cеанс”, сюда приехали Андрей Плахов и Люба Аркус и хотели для этого специального выпуска бергмановского, чтобы он хотя бы расписался, не написал несколько слов, а хотя бы поставил свою подпись, дал разрешение на первой странице ее продемонстрировать, он отказал им. А этот спектакль он не только разрешил поставить в МХТ, но когда я ехала на премьеру, летела Москву, то он передал со мной свое поздравление театру и свое напутствие и пожелание.
Дмитрий Волчек: Сергей Юрский записал этот диск?
Наталья Казимировская: Диск для книги записал Юрский и его семья. Это немного даже символично, эта книга, это тоже наш семейный продукт, и семья Юрского сделала спектакль “После репетиции”: Юрский, Тенякова и Даша, и то, что записано на этом диске, это их спектакль. Это переделанный спектакль, тот самый, который шел в МХТ, но уже как бы для радио.
Дмитрий Волчек: У Бергмана ведь много учеников знаменитых, последователей — Билле Аугуст, Лив Ульман. Я хотел бы поговорить о наследниках Бергмана, о его труппе, его актерах, об их достижениях последних лет, что они делают.
Наталья Казимировская: Например, Мари Боневи сейчас как раз сидела в жюри кинофестиваля в Карловых Варах, того, что прошел на днях. Сказать, что у него так уж много последователей или учеников, мне кажется, это некоторая натяжка. Но, конечно, актеры, многие из которых еще живы, сделали свои лучшие работы с ним. Кто-то из них, скажем, Лив Ульман, стала заниматься режиссурой. Не знаю, можно ли сказать, что это ученики его в прямом смысле. Как считает Натан?
Натан Горелик: В режиссуре, может быть, нет таких явных учеников или последователей, ну разве что Лив Ульман и Аугуст, которые приняли или восприняли каким-то образом методы, подходы к киноискусству, киноповествованию Бергмана. Но актеры, те, которых называют бергмановскими актерами, они продолжают трудиться и большая часть из них продолжает играть на сцене “Драматена”, продолжают работать Борье Альстед, и Пернилла Аугуст и Лена Андрэ. У них в последние годы есть очень интересные работы. Я думаю, что совместная работа с Бергманом оставила большой след не только в их биографиях, но и дала своеобразный толчок для продолжения их жизни в театре и в кино.
Дмитрий Волчек: Наташа, вы уже начали рассказ о Бергмановском фестивале, который прошел недавно. Какие постановки были самыми примечательными?
Наталья Казимировская: Из бергмановских произведений были поставлены “Шепоты и крики” — это театр “Туннель” из Амстердама, и “Из жизни марионеток” — был Гамбургский театр. Вы знаете, хотя этот фестиваль был назван Бергмановским, и было сказано, что он сделан под знаком духовного наследия Бергмана, на самом деле у меня было ощущение, что он был сделан, скорее, под знаком духовного наследия главного режиссера этого театра Хольма, он как раз покидает театр и выбрал по своему вкусу большое количество произведений. Но дело не в этом. Факт тот, что благодаря имени Бергмана впервые возникла возможность сделать в Швеции серьезный интернациональный театральный фестиваль, потому что, как это ни странно, такого фестиваля до сих пор не было. И я думаю, что идея создателей, с одной стороны, конечно же, делать это очень на высоком профессиональном уровне, и это было на высоком профессиональном уровне, те спектакли, которые игрались, сделать это достойно и назвать этот фестиваль именем Бергмана. С другой стороны, это идея интернационального фестиваля в Швеции, на который будет возможно приглашать интересные театры из-за границы. Пока есть экономические возможности провести этот фестиваль еще раз, и есть надежда, что он будет продолжаться и дальше. Было довольно интересно, но впрямую к Бергману или ко вкусам Бергмана, на мой взгляд, этот фестиваль отношения не имел.
Дмитрий Волчек: Наташа, ведь были споры и о материальном наследстве Бергмана, я видел это в газетах, о судьбе его бумаг, его архива, его дома на острове Фаре. Как разрешилась там ситуация?
Наталья Казимировская: По-моему, она не разрешилась, но я думаю, что Натан сможет рассказать больше, потому что он был в прошлом году на Неделе Бергмана, именно на этом острове, где это все еще по свежим следам разыгрывалось, и я могу только сказать, что там, видимо, серьезные идут перепалки, не только связанные с домом. Скажем, была очень забавная ситуация, когда театральный фестиваль “Балтийский дом” в Питере захотел присудить Ингмару Бергману премию “Балтийская Звезда”, которая была в свое время присуждена и Анджею Вайде, он приезжал, получал эту премию, и многим другим очень интересным людям. И вот они хотели это сделать в прошлом году и вручить Бергману, но дети не договорились между собой, кто приедет получать эту премию, потому что согласился поначалу один сын, потом отказался и, видимо, никто не знал, кто эту денежную премию или кто эти почести имеет право принять на себя. Что касается этого дома, то я думаю, что Натан может рассказать подробнее, поскольку он был свидетелем всех этих разговоров непосредственно на острове.
Дмитрий Волчек: Натан, что происходит с домом на острове Форё и есть ли надежда, что когда-нибудь там появится музей Брегмана?
Натан Горелик: Во-первых, что касается литературного, дневникового, документального наследия Бергмана, тут никакой проблемы нет. Он еще при своей жизни большую часть своего архива передал в Киноинститут Стокгольма. Сейчас, после смерти Бергмана, создан специальный фонд, который так и называется “Фонд Ингмара Брегмана”, который владеет всеми документами, всем архивом, переданным Бергманом и его семьей в этот фонд и, надо сказать, что шведское государство изыскало довольно значительные средства для того, чтобы поддержать этот фонд, средства, которые позволили привести в порядок и продолжать работать со всем очень большим и интересным архивом. Сейчас осуществляется дигитализация всего архива, это тоже очень большая и дорогая работа. Опять-таки, правительство Швеции выделило средства на проведение этого интернационального театрального фестиваля имени Бергмана или в память о Бергмане. Единственная проблема, которая продолжает беспокоить шведские театральные и киношные круги, это дом Бергмана. Вскоре после смерти Бергмана возникла инициатива создать на месте этого дома на острове Форё, во-первых, музей и, во-вторых, такой дом творчества, в который могли бы приезжать молодые авторы, сценаристы, кинематографисты и работать над своими произведениями. Но Бергман завещал этот дом своим детям, он велел продать его по самой высокой цене, и врученная сумма должна был быть поделена между всеми наследниками. И дети исполняют завещание отца, они продают этот дом. Сейчас он отдан на продажу в известный аукцион, по-моему, “Кристи”, и, конечно, такие суммы, которые могут фигурировать в этом аукционе, общественность Швеции пока собрать не может. И найти частных спонсоров, которые могли бы выкупить этот дом и предать его для таких благородных творческих целей, пока не нашлось. Создана специальная инициативная группа, комиссия, которую возглавляет бывший премьер министр Швеции Ингмар Карлсон, который сейчас занимается этой проблемой. Я знаю, что последняя акция, которую провела эта инициативная группа, они опубликовали свое обращение к американским кинематографистам в газете, в органе Голливуда, в которой как раз просят поучаствовать в решении этой проблемы. Так обстоит дело на сегодняшний день.
Дмитрий Волчек: Я надеюсь, что этот дом приобретет какой-нибудь меценат и создаст в нем музей режиссера, и хочу, в заключение разговора с театроведами Натальей Казимировской и Натаном Гореликом, подготовившими русское издание книги Ингмара Бергмана “Пятый акт”, обратить внимание слушателей на новый сайт московского музея кино – http://www.museikino.ru/ — там опубликована большая работа Ингмара Бергмана “Каждый мой фильм — последний”.
