Журнал «Театральная жизнь», 1995, № 4. С. 11-13.
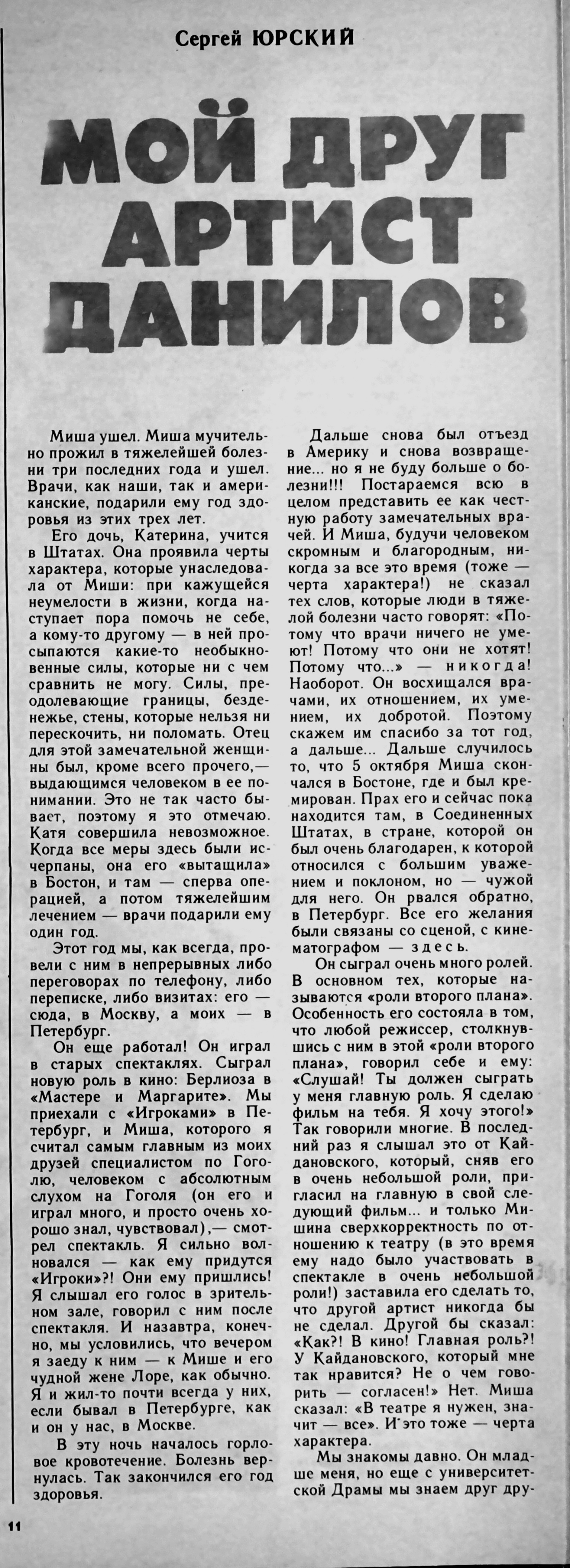


Миша ушел. Миша мучительно прожил в тяжелейшей болезни три последних года и ушел. Врачи, как наши, так и американские, подарили ему год здоровья из этих трех лет.
Его дочь, Катерина, учится в Штатах. Она проявила черты характера, которые унаследовала от Миши: при кажущейся неумелости в жизни, когда наступает пора помочь не себе, а кому-то другому – в ней просыпаются какие-то необыкновенные силы, которые ни с чем сравнить не могу. Силы, преодолевающие границы, безденежье, стены, которые нельзя ни перескочить, ни поломать. Отец для этой замечательной женщины был, кроме всего прочего,– выдающимся человеком в ее понимании. Это не так часто бывает, поэтому я это отмечаю. Катя совершила невозможное. Когда все меры здесь были исчерпаны, она его «вытащила» в Бостон, и там – сперва операцией, а потом тяжелейшим лечением – врачи подарили ему один год.
Этот год мы, как всегда, провели с ним в непрерывных либо переговорах по телефону, либо переписке, либо визитах: его – сюда, в Москву, а моих – в Петербург.
Он еще работал! Он играл в старых спектаклях. Сыграл новую роль в кино: Берлиоза в «Мастере и Маргарите». Мы приехали с «Игроками» в Петербург, и Миша, которого я считал самым главным из моих друзей специалистом по Гоголю, человеком с абсолютным слухом на Гоголя (он его и играл много, и просто очень хорошо знал, чувствовал),– смотрел спектакль. Я сильно волновался – как ему придутся «Игроки»?! Они ему пришлись! Я слышал его голос в зрительном зале, говорил с ним после спектакля. И назавтра, конечно, мы условились, что вечером я заеду к ним – к Мише и его чудной жене Лоре, как обычно. Я и жил-то почти всегда у них, если бывал в Петербурге, как и он у нас, в Москве.
В эту ночь началось горловое кровотечение. Болезнь вернулась. Так закончился его год здоровья.
Дальше снова был отъезд в Америку и снова возвращение… но я не буду больше о болезни!!! Постараемся всю в целом представить ее как честную работу замечательных врачей. И Миша, будучи человеком скромным и благородным, никогда за все это время (тоже – черта характера!) не сказал тех слов, которые люди в тяжелой болезни часто говорят: «Потому что врачи ничего не умеют! Потому что они не хотят! Потому что…» – никогда! Наоборот. Он восхищался врачами, их отношением, их умением, их добротой. Поэтому скажем им спасибо за тот год, а дальше… Дальше случилось то, что 5 октября Миша скончался в Бостоне, где и был кремирован. Прах его и сейчас пока находится там, в Соединенных Штатах, в стране, которой он был очень благодарен, к которой относился с большим уважением и поклоном, но – чужой для него. Он рвался обратно, в Петербург. Все его желания были связаны со сценой, с кинематографом – здесь.
Он сыграл очень много ролей. В основном тех, которые называются «роли второго плана». Особенность его состояла в том, что любой режиссер, столкнувшись с ним в этой «роли второго плана», говорил себе и ему: «Слушай! Ты должен сыграть у меня главную роль. Я сделаю фильм на тебя. Я хочу этого!» Так говорили многие. В последний раз я слышал это от Кайдановского, который, сняв его в очень небольшой роли, пригласил на главную в свой следующий фильм… и только Мишина сверхкорректность по отношению к театру (в это время ему надо было участвовать в спектакле в очень небольшой роли!) заставила его сделать то, что другой артист никогда бы не сделал. Другой бы сказал: «Как?! В кино! Главная роль?! У Кайдановского, который мне так нравится? Не о чем говорить – согласен!» Нет. Миша сказал: «В театре я нужен, значит – все». И это тоже – черта характера.
Мы знакомы давно. Он младше меня, но еще с университетской Драмы мы знаем друг друга, то есть с грани 50—60-х годов. Тридцать пять лет насчитывают наши отношения дружеские, все более близкие. За эти годы он сыграл многое и проявил то, в чем я был всегда убежден: он умел держать на себе сцену, почти не делая заметных усилий. Это был «артист без пота». Он никогда не старался «тянуть одеяло на себя», не боялся оказаться незамеченным, не стремился выглядеть лучше, чем есть на самом деле – эти вещи были ему просто органически несвойственны. Его интересовало всегда целое. Спектакль. Для него был важен уровень театра, в котором он служит, уровень искусства в городе, в котором он работает, и во имя этого уровня он всегда готов был принести себя в жертву в смысле величины и значимости своей роли. Постоянно была некая внутренняя точка отсчета, по которой он мерял себя и окружающих.
Во всех моих режиссерских начинаниях Миша играл всегда! Он играл в «Фиесте», он играл в «Мольере», он играл в моем фильме «Чернов» (одна из последних его ролей), он играл в «Избраннике судьбы» Б. Шоу, которого мы делали. Затевали еще много вещей, которые не состоялись – но! всегда затевали вместе!
Миша был одарен несколькими музами и потому с ним всегда было, кроме того, что приятно, – выгодно работать. Его вкус и умение рисовать – очень высокое – всегда вносило коррективы в оформление, и всегда – в пользу спектакля. Он был приятелем и деловым сотрудником такого мастера, как художник Кочергин в БДТ. Он был коллекционером пластинок и записей. Он любил джаз и знал его по-настоящему. Меньше знал, но так же любил и коллекционировал классику. И все это было направлено – на театр. Его коллекция становилась источником для музыкального оформления спектакля. К нему приходили профессионалы. У него просиживал дни его и мой друг – заведующий музыкальной частью БДТ Семен Розенцвейг – выдающийся театральный композитор, человек театра. Он всегда дружил с фотографами, потому что сам был выдающимся профессиональным фотографом. И опять-таки занимался этим не для выставок, не для славы… Это уж когда накопилось столько, что стало сыпаться из щелей квартиры, – тогда пришло время подобрать эти фотографии и попробовать их показать – и выставка была очень успешной.
На сцене у Миши не было, я полагаю, ни одной незаметной работы. Я расскажу о трех ролях, которые мы с ним делали: две в театре и одну в кино. Монтойя – хозяин отеля в спектакле, а потом в телевизионном фильме «Фиеста». Для Хемингуэя – эпизод, для театра – небольшая роль – так получилось в композиции. Но! Миша был не просто заметен – он определял стиль. Вот это есть его особенность! Стиль всей испанской части, суровость, появляющаяся с началом испанских сцен, шла через него. Позже, в телевизионном варианте, когда Матадора играл Миша Барышников, их взаимоотношения – взаимоотношения двух испанцев – рождали мощнейшие, напряженнейшие, суровые звуки Рока.
Данилов определял стиль. Мы много играли булгаковского «Мольера», вместе, буквально, делали спектакль. У него была большая роль – Лагранж. Роль очень важная и очень… невыигрышная по опыту всех спектаклей, которые я смотрел прежде. Миша выиграл эту роль! Потому что, повторяю, он определял стиль. Уже двойной стиль. Невероятно сложный. Стиль, с одной стороны, эпохи Франции куртуазной, Франции придворного двора; с другой – стиль актерский – компании актеров, людей куда попроще, чем придворные. Они одеваются как придворные, они вынуждены вести себя как придворные, но они – актеры, они – комедианты, они – шуты.
Наконец – кино. Совсем современная вещь – «Чернов». Миша уже не очень хорошо себя чувствовал, хотя болезнь еще не развернулась в полном масштабе. Это был 89-й год. Снова роль предельно трудная: загадочный «секретный» человек времени «застоя» по фамилии Деян. В отличие от всех окружающих, человек богатый. И богатый официально. Видимо, какой-то то ли физик, то ли начальник неких секретных разработок, непонятно кто… И вместе с тем человек, пронизанный комплексами, чувствующий невероятное одиночество в своей замкнутости. Очень типичная вообще фигура интеллигента. Но как выразить такой тип? Когда я писал сценарий – все было ясно. Но писать рукой – одно дело. Воплотить – иное. И снова – стиль! У Миши там одна главная сцена большая – его монолог и несколько сцен поменьше… Я теперь бесконечно жалею, что в те времена, когда очень сурово относились к тому, чтобы фильм был хоть на пять минут длиннее «нормы», я несколько вещей вынужден был «отрезать» в угоду этой строгости. Все «отрезки», связанные с Мишей, сейчас для меня выглядят большим грехом! Он сумел воплотить гигантские монологи в кино! Более десяти минут длится одна сцена с покупкой игрушечной железной дороги невероятных размеров; мистической почти тяги этого богатого, успешного «секретного» человека к тому, чтобы получить игрушку и окончательно, навсегда замкнуться в своем одиночестве…
Я восхищаюсь Мишей. И в памяти восхищаюсь, и глядя на фотографии – какой он… Как он умел, со своей никак нетеатральной внешностью, попадать в любой стиль и (еще одна его особенность) – осуществлять его неназойливо, и, абсолютно никогда никому ничего не указывая и не советуя, влиять на окружающих! Его стиль был не личным, а лучеиспускающим. В эти лучи попадали партнеры. В эти лучи попадал режиссер. Он обогащал дело не только своим присутствием, но и светом, который от него исходил.
В личном плане могу сказать, что у меня очень мало друзей. Миша – один из двух самых близких. Бывали у нас периоды тяжелые, мрачные – и у меня, и у него, и у нас обоих вместе. Но общение с ним позволяло мне сохранять чувство юмора. Потому что именно в общении с ним удавалось в конце концов осмеять любое зло, а самое главное – осмеять еще и себя. И потому – выжить! Не слишком серьезно к себе относясь.
Он относился к себе совсем несерьезно! Он относился серьезно– к делу, которым занимался. Вот тут он был человеком подробным. Как он делал фотографии, как он делал трубки курительные… Со специалистом-трубочником стариком Федоровым у них возникла взаимная симпатия, почти дружба, несмотря на разность в возрасте; Миша к нему ходил, учился, научился, стал делать трубки, которые, что говорить… дарил – не продавать же – этого он вовсе не умел – дарил. У Товстоногова была его трубка. У разных людей… И в этом ремесле тоже проявлялась тщательность и абсолютное проникновение в профессию, до глубин мастерства. Таким он и был. Фотограф? Высокопрофессиональный! Трубочный мастер? Высокопрофессио—нальный! Художник? Настоящий! Актер? Более чем высоко—профессиональный, потому что это было для него изначально главным.
Роли его вы, наверное, и без меня вспомните. Основные. Добавим сюда знаменитую «Историю лошади», с которой он вместе с театром объездил буквально полмира. Он там играл Конюха – одну из видных ролей. Но он всегда был виден. Добчинский в «Ревизоре»… тоже нашумевший спектакль. Шекспировский «Генрих IV». Фердыщенко в «Идиоте» Достоевского, в котором он сменил меня (он позже пришел в театр, я играл вторым эту роль, а он третьим уже, и очень успешно). Последние работы: Островский «Женитьба Бальзаминова», «Театр времен Нерона и Сенеки», шукшинские «Энергичные люди» и, конечно, «Пиквикский клуб» – вот был его автор – Диккенс! Ролей много. В театре. На экране – еще больше. Большие замечательные роли в фильмах Фоменко, «Мегрэ и доктор Ватсон» на телевидении, десятки ролей на Ленинградском ТВ. А в кино… Он, наверное, давно бы сыграл и в кино главную роль, если бы не два обстоятельства. Первое: он не был с о в е т с к и м п е р с о н а ж е м. Существовала узость в понимании того, что есть герой произведения. Это менялось, конечно; в 60-е годы было одно, скажем, тогда мне посчастливилось, и я попал в число возможных «героев», а в 70-е я уже не годился. Что-то менялось. Но! Мишин «герой» за все это время не пришел никогда! Это была ограниченность нашего кинематографа. С п и с о ч н о составлялся – в буквальном смысле – набор тех, кто мог стать «героем»: и актеров, и типов людей. Этот тип человека – человека, склонного к размышлению, к рефлексии, человека скромного, человека глубоко, по-настоящему образованного, человека, абсолютно далекого от любых лозунгов, от любой демагогии, от любых организаций (он не вступил даже в ВТО!!!), – не вписывался в общий реестр. «Никогда нигде не состою. Я – абсолютно частное лицо!» Быть абсолютно частным лицом в течение пятидесяти лет жизни – это наносит некоторый отпечаток на самое лицо. Это становится заметным. Человек вроде бы ничего не заявляет, не кричит, руками не машет, но он говорит: «Я только всего-навсего сам по себе». Это было почти крамолой в те времена – вспомним! И поэтому человек с таким лицом, с такими глазами – даже беззащитными, не агрессивными, а именно беззащитными, но абсолютно отталкивающими всякую возможность стать частью толпы – это особая индивидуальность. Не-при-ем-ле-ма-я. И поэтому он не мог быть «героем».
Это первая причина: он не годился. Не было такого «типа» в списке.
Второе – черта характера. Это уже внутреннее. И вот тут заметим, что Миша ушел из жизни на переломе, когда люди, подобные ему, совсем уже потеряли бы все шансы быть заметными. Теперь пришла вроде бы «свобода персонажей», могут быть и такие «герои», и сякие… Хотя пока я не вижу, чтобы сценарии создавались по каким то новым импульсам. В общем, все идет по старинке, только знак меняется: положительный герой стал отрицательным, а отрицательный – положительным. И все-таки есть возможность, в принципе, предъявить совсем другого «героя». Но! Для этого нужно быть обязательно «звездой». Потому что если раньше для того, чтобы играть главные роли, нужно было быть либо партийным, либо признанным руководством, либо состоять в «списках», то теперь нет ни «списков», ни партийности, но есть другое – главную роль должна играть «звезда»! Или это должна быть первая роль, то есть «раскручиваемая звезда», «звезда» при начале, либо готовая «звезда», если человек в возрасте. А Миша не просто не был «звездой» – он не мог ею быть! Он стряхнул бы с себя эти одежды, стыдясь их. Он этого понять не мог! Зачем это?! Раньше бы сказали еще такую фразу: «Не умел толкаться локтями», не умел ничего требовать. Но сейчас я подчеркиваю именно эту сторону дела: нужно очень многое было бы преодолевать режиссеру для того, чтобы уговорить снимать фильм «на Данилова» кого-нибудь из «денежных людей». Может быть, сегодня такие бы и нашлись и у него все-таки были бы шансы… были бы… Но тогда могли сказать так: «Ладно. Он, конечно, пока не «звезда», но мы, хоть и поздновато, «раскрутим его»! И вот тут-то с Мишей оказалось бы очень трудно сговориться, потому что он был слишком «тяжел» для того, чтобы его «раскручивать», слишком индивидуален и твердо стоял на земле. Так – как он хотел, как ему Бог судил. Слишком твердо, чтобы позволить себя кому-то «раскручивать». А самому «вертеться» – он бы сам над собой смеялся!
Подведем итоги тому, что я думаю сейчас, сегодня про моего ушедшего друга. Состоялась ли его жизнь земная? Я думаю, что – да. Потому что, мысленно разговаривая с ним, представляю: а как бы он сидел сейчас с нами, если бы это было возможно, как бы он оценил все это? Начал бы составлять список претензий к жизни, к той эпохе, к этой эпохе?.. Думаю, что он бы не стал…
Жизнь его состоялась.
Потому что не было ни одного коллеги, который, встретившись с ним даже на один-два дня в съемках, а тем более работая с ним в театре или столкнувшись с ним в поезде, на перепутье дорог, в заграничной поездке, в командировке – не запомнил бы этого человека! Не было такого. Это я знаю твердо; все-таки круг у нас общий.
Не было зрителя, который бы, сидя в зале кинотеатра или театра, не обратил на него внимания и не сказал бы: «Это – класс!» Не было такого!
Упустил ли он много ролей? Упустил. Он их и не ловил. Что не сыграно, то не сыграно, и теперь поздно горевать на эту тему, поздно лить слезы по тому, что уже никак нельзя изменить.
Я думаю, что лить слезы можно и естественно просто потому, что этот человек ушел из жизни.
Судьбу его не забыть тем, кто был с ним близок. Мне – прежде всего.
А сегодня я просто радуюсь, что Миша был. Скорблю, что его нет. И больше ничего не добавлю.
Комментарий Юрия Кружнова:
С подписью, конечно, в редакции «постарались» — фото Нины Аловерт из «Младенцев в джунглях» подали как кадр из «Чернова». А фото Миши в мастерской, как помню, не Боря Стукалов делал, а Катенька Данилова. Это его мастерская трубочная, у него и фартук, который ему сшила Катенька, на нем — аппликация курительной трубки.

Другие материалы о Михаиле Данилове — ЗДЕСЬ
